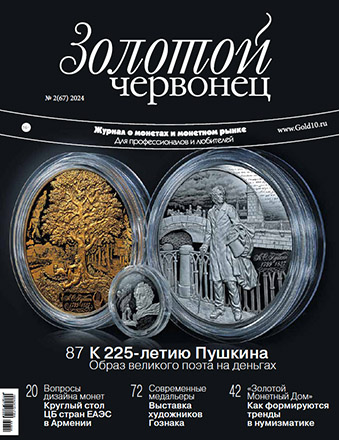Инновации в русском монетном производстве середины XVII века
Инновации в русском монетном производстве середины XVII века
В середине XVII века, в 1654 г., царь Алексей Михайлович в связи с решением вопроса о присоединении Украины к России вынужден был начать денежную реформу. В том же году впервые прозвучал новый титул царя – «всея Великия и Малыя Росии самодержца», который стал чеканиться и на монетах. Реформа потребовала новых подходов в организации производства монет. О том, с какими трудностями был сопряжен процесс инноваций в денежном деле, рассказал на VI Международной конференции «Деньги в российской истории» ученый-историк, эксперт-нумизмат Игорь ШИРЯКОВ.Автор: Текст Игорь ШИРЯКОВ
Рубрика : РЕВЕРС / История монетного дела